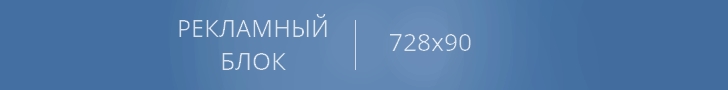Рецензия к фильму Левиафан
admin 03-окт, 21:33 193 Фильмы / Рецензии на кинофильмы
Итак, не получилось в "Левиафане" бодатися с дубом или там с жюри оскаровского комитета, который картину Звягинцева на конкурс допустил, но премию дал другому фильму.
Зато о "Левиафан" вспомнить незлым тихим словом таки стоит. И не только потому, что почти все наши периодические и не очень издания очень его полюбили. Не в последнюю очередь потому, что, будучи собственностью наших государственных-чиновников, все же к мысли сверху прислушиваются. Ну, а там, как известно, надеются, что дружба народов все же "восторжествует", поэтому ничего плохого о старшем брате-либерала просят не писать.
Но устаревшая мысль, и внизу так не считают. Зато считается, что российский кинематограф давно и уверенно движется назад в будущее. Другого пути для продвижения фильма не в массы, а в кассу, к сожалению, не существует: либо государственная агитка, которая прославляет славное советское прошлое, или авторское кино, воспевающий пусть даже тоску, но по этому же прошлым. Неудивительно, что одна из культовых арт-хаусных лент последнего времени - "Изображая жертву" - начинается с печальной заявления о том, что российское кино сегодня, извините, в заднице.
Но особенно извиняться нечего, так как упомянутая лента широкую огласку не было, зато фильм, о котором сейчас вещаем, задолго до выхода получил пафосного государственного статуса, и поэтому без скандала, конечно, не обошлось. Действительно, "Левиафан" Андрея Звягинцева, премьера которого состоялась на Каннском фестивале в 2014 году, где он получил приз за лучший сценарий, впоследствии победил на "Золотом глобусе" как лучший фильм на иностранном языке, а потом еще и вошел в список номинантов на премию "Оскар" - довольно противоречивый проект.
И подтверждением этому стали и продолжают становиться события как общественного, так и общественного толка. Словом, эйфория длится, угрожая веселым скандалом, который все более напоминает искусный пиар картины российского режиссера. Что же такого необычного в фильме, посвященного привычной борьбе одиночки, напоминает библейского Иова, который соперничает с Левиафаном - государством-монстром, который путешествует по философии Гоббса?
Говорят, что он русофобский, антихристианский, ложный. Мол, после съемок в нем один из актеров вынужден был эмигрировать, а второй, который бросил жену, сошелся со своей партнершей по фильму. Словом, сплошная мистика пополам с предполагаемой метафизикой загадочной русской души. Сюжетная канва ленты Звягинцева, как известно, не очень требовательна.
Мэр приморского городка выбрасывает из собственного дома труженика с семьей, чтобы построить на том месте новую церковь, где будет замаливать грехи. На помощь труженикам мчится из Москвы армейский друг-адвокат, который впоследствии изменяет бедолаге с его собственной женой.
Впереди суд, клевета друзей-соседей, навязанное убийство, брошенный на произвол судьбы несовершеннолетний сын. Казалось, обычная схема "кино за правду", призванного стать флагом прогрессивного либерализма, иконой нонконформистского стиля - если бы не сразу несколько "но".
Во-первых, "Левиафан" Звягинцева снят на государственные деньги, о чем уже напомнил российский министр культуры, назвав этот фильм откровенно конъюнктурным.
Во-вторых, средства, которыми пользуется в сюжетной схеме режиссер, до боли напоминают бурные 90-е с их жестким принуждением-рэкетом во всех структурах местного бытия - от налоговой до дорожной службы и судебной системы и церкви. Хотя по русофобии, в которой обвиняют ленту, можно поспорить. Разве в народе не изменяют? Не пьют из горла? Не спят с лучшим другом на фоне величественных ландшафтов? Разве вместе с иконками не возят в машине фото голых баб? Разве не стреляют на пикнике по мишеням из портретов генсеков?
Если это русофобия, то надо запретить всю русскую культуру - от Толстого, Достоевского и Чехова до Пелевина, Сорокина и Акунина. Собственно, некоторые из этой самой культуры опосредованно уже запрещают. С другой стороны, бросается в глаза профессиональный цинизм автора фильма. Ведь Звягинцев - из тех художников, что вслед за Тарковским привыкли выражаться сплошными притчами, поскольку именно такими малопонятными массовому зрителю фильмами они пытаются вписаться в вечность. Пусть даже профанируя жанр драмы, имитируя высокую духовность подтекста и изображая из любого мужика жертву кровавого режима. При этом думая, что грандиозными северными пейзажами с символическими скелетами китов-левиафанов на берегу они перекроют засилья в картине мата, пьянки и человеческой разочарования в будущем.
Так или иначе, но в фильме Звягинцева, кажется, в очередной раз вышла на глаза проблема художника и общества, а спустя уже власти в этом обществе. Автор так видит народ, ну а народ так живет и видит этого художника в глубокой ... кризисе современного искусства. Конечно, социальная драма "Левиафан" - это не трагикомическая картина "Горько!", Которую легко проглотит обыватель, узнав в ней картину своего собственного житья-бытья.
Зато картина Звягинцева, полна высоколобых метафор, цитат и символов - история о том же существование в российской глубинке, но рассмотренное с вершин западной традиции. Вот и получается, что российская либеральная публика такими фильмами о народе возмущается, так как знает, что натуру режиссер подыскивает умышленно нетипичную (заброшенное село в "Левиафане"), а западный зритель радуется. Ведь режиссер угодил их представлениям о дикой Россию с медведями на улицах Москвы (заменены в Звягинцева китами в Мурманске), питьем-биением тамошних аборигенов, а также невикоринену коррупцию и случку церкви с государством. Поэтому и неудивительно, что любую западную премию подобном восточном Левиафану в привычном стиле "а ля рюс" обычно гарантировано, но на этот раз "не судьба". Пожалуй, те же, кому дали, провинились.